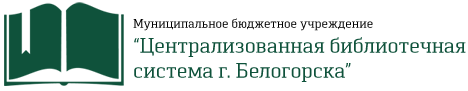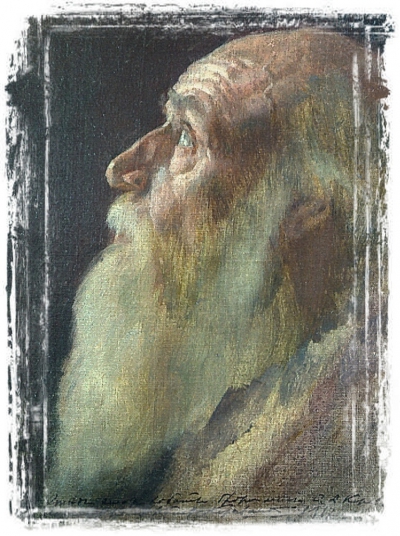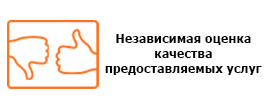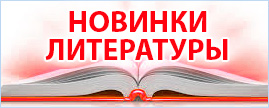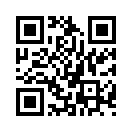Библиотеки занимали в жизни Н.Ф. Фёдорова особое место. Он писал об огромном значении библиотек и музеев как очагов духовного наследия, центров собирания, исследования и просвещения, нравственного воспитания. Библиотеки, по его мнению, должны быть центром общественной жизни, аналогом храмов, местом, где люди приобщаются к культуре и науке.
Николай Фёдоров родился 7 июня 1829 года в селе Ключи Сасовского района Рязанской области. Как внебрачный сын князя П.И. Гагарина получил фамилию крёстного отца. Известно, что у Фёдора были ещё старший брат, с которым они вместе воспитывались и обучались по 1851 год и три сестры. В 1836 году Фёдор бы определён в уездное училище, в 1842 году в Тамбовскую гимназию, после окончания, которой в 1849 году, поступил на камерное отделение Ришельевского лицея в Одессе, где проучился всего два года и был вынужден оставить лицей ввиду смерти дяди К.И. Гагарина, платившего за обучение. С 1854 года начинаются скитания молодого Фёдорова, он ищет дело жизни, её смысл. За четырнадцать лет он жил в семи городах, работал учителем истории и географии в уездных училищах. В преподавании широко использовал краеведческий материал: рассказывал о событиях, происшедших именно в этих местах, показывал сохранившиеся памятники прошлого; знакомя с фауной и флорой, организовывал экскурсии на природу. Много занимался с учениками и после окончания уроков. Нуждающимся помогал материально. Поменяв несколько мест, решает навсегда покончить с преподаванием. В 1867 году отправился в Москву пешком. Поступил там помощником библиотекаря в Чертковскую библиотеку. В 1874 был зачислен в штат библиотеки двух музеев – Московского публичного и Румянцевского (ныне – Российская государственная библиотека) на должность «дежурного при читальном зале», где прослужил более 25 лет в этом скромном чине. В те годы Румянцевский музей представлял собой некое целое из музея, архива и библиотеки. Зная проблемы своего учреждения как высококвалифицированный и неравнодушный к своему поприщу сотрудник, Н.Ф. Федоров не только усовершенствовал практическую работу библиотекарей, разработав форму и содержание библиографической картотеки, но и поспособствовал тем самым скорейшему продвижению знаний среди приходящих в музей исследователей.
Вспоминая первый визит соискателя на должность Фёдорова, Е.Ф. Корш, заведовавший библиотекой, в личной переписке сообщал о неизгладимом впечатлении, произведенном на него философом. Он признавался, что никак не мог отпустить собеседника и твёрдо решил трудоустроить необыкновенного соискателя, несмотря на отсутствие вакантного места, «вольно-трудящимся» (соотносясь с современными реалиями – волонтёром с возможностью последующего трудоустройства в штат библиотеки). В собеседнике Корша потрясло буквально всё: весьма своеобразная внешность, необыкновенная манера излагать, обосновывать и иметь собственные суждения во всех сферах научного знания.
Скромный коллежский асессор Фёдоров обладал феноменальной памятью, мог рассказать о любой книге библиотеки. Работу свою он любил самозабвенно. Приходил на неё за 1,5 – 2 часа раньше положенного времени, подбирал заказанные книги, часто добавляя по собственному усмотрению те, которые читатель и не просил, т.к. и не подозревал об их существовании. Если нужной книги не оказывалось в библиотеке, то рекомендовал место, где её можно было найти. Любому посетителю он мог дать справку по интересующему его вопросу, подсказать нужную литературу. Работа в те времена заканчивалась в 3 часа дня. Но ещё час-два он оставался с некоторыми своими знакомыми и читателями, беседуя на самые разные темы. «...Многие учёные ему обязаны за его указания, и скромная библиотека Румянцевского музея долгие годы была какою-то лабораторией мысли, служила умственным центром Москвы, куда тянулись люди, имена которых широко прославлены», — писал в своей статье публицист Ю. Бартенёв. Н.Ф. Фёдоров вёл аскетическую жизнь, старался не владеть никаким имуществом, значительную часть жалования раздавал своим «стипендиатам», от прибавок к жалованию отказывался, всегда ходил пешком. Возвратившись, домой, обедал, чем попало, частенько хлеб с чаем, ложился спать на голом сундуке на час-полтора. После пробуждения читал до трёх-четырёх часов ночи, снова ложился спать часа на два и утром, попив чая, уходил в семь или восемь часов на работу. И так из года в год. Его аскетизм поражал многих. Л. Толстой записал в своём дневнике в 1881 году: «Николай Фёдорович - святой... Каморка. Нет жалованья. Нет белья, нет постели». Скромность Фёдорова шла от его убеждений, он не любил шумихи вокруг своего имени. Однако культурная Москва знала его так хорошо, что фамилию можно было не упоминать: все некрологи в 1903 г. вышли с заголовками «Умер Николай Фёдорович...», «Памяти Николая Фёдоровича...».
Говорили, что он знает содержание всех книг, а это было самое богатое книгохранилище России. Он мог подобрать литературу на любую тему, не пользуясь каталогом, будь то инженерная тема или требовалась литература для диссертации врача. Его почитали сотрудники и читатели. С ним советовались писатели, математики, художники, историки, медики, любители изящной словесности и люди самых разных профессий. Его называли идеальным библиотекарем. Фёдоров провёл самостоятельно систематизацию и каталогизацию всех фондов, первым ввёл в библиотечное дело предметный каталог, что говорило о великолепном знании книг фонда, покупал на свой счёт книги, которых не было в библиотеке, предложил форму частного и международного книгообмена. Работал и в воскресенье, только чтобы могли люди заниматься, несвободные в другие дни, приплачивал из своего жалования служащим библиотеки, дабы увеличить их усердие по службе. Если занятия того или иного читателя принимали серьёзное направление, через некоторое время следовало приглашение: «Вас просит пожаловать к себе Николай Фёдорович». И тогда происходило личное знакомство, обнаруживались огромные познания Фёдорова, и он призывал читателя, работающего над той или иной темой исчерпать весь «базис» литературы музея по данному вопросу.
В 1870-х годах Фёдоров, работая библиотекарем, познакомился с Циолковским, который впоследствии вспоминал, что его Фёдоров тоже хотел сделать его своим «пансионером» и называл Фёдорова «изумительным философом». Циолковский признавал, что Фёдоров заменил ему университетских профессоров. Вот что он вспоминал о Н.Ф. Фёдорове. "Кстати, в Чертковской библиотеке я заметил одного служащего с необыкновенно добрым лицом. Никогда я потом не встречал ничего подобного. Видно, правда, что лицо есть зеркало души. Когда усталые и бесприютные люди засыпали в библиотеке, то он не обращал на это никакого внимания. Другой библиотекарь сейчас же сурово будил. Он же давал мне запрещённые книги. Потом оказалось, что это известный аскет Фёдоров — друг Толстого и изумительный философ и скромник. Он раздавал всё свое крохотное жалованье беднякам. Теперь я вижу, что он и меня хотел сделать своим пенсионером, но это ему не удалось: я чересчур дичился. Потом я ещё узнал, что он был некоторое время учителем в Боровске, где служил много позднее и я. Помню благообразного брюнета, среднего роста, с лысиной, но довольно прилично одетого. Фёдоров был незаконный сын какого-то вельможи и крепостной. По своей скромности он не хотел печатать свои труды, несмотря на полную к тому возможность и уговоры друзей».
Владимир Сергеевич Соловьёв – русский религиозный мыслитель, мистик,, поэт и публицист, литературный критик, преподаватель; почётный академик Императорской Академии наук по разряду изящной словесности регулярно общался с Фёдоровым и писал ему: «Прочёл я Вашу рукопись с жадностью и наслаждением духа, посвятив этому чтению всю ночь и часть утра, а следующие два дня, субботу и воскресенье, много думал о прочитанном. «Проект» Ваш я принимаю безусловно и без всяких разговоров… Со времени появления христианства Ваш «проект» «есть первое движение вперёд человеческого духа по пути Христову. Я со своей стороны могу только признать Вас своим учителем и отцом духовным… Будьте здоровы, дорогой учитель и утешитель».
Лев Толстой познакомился с Фёдоровым осенью 1878 года в Румянцевском музее, но более тесное общение последовало с октября 1881 года. По предложению Фёдорова Толстой передал свои рукописи на хранение в Румянцевский музей. Но позже разрыв между двумя мыслителями стал неизбежным в связи с антиклерикальными мотивами в творчестве Толстого. Также Фёдоров считал Толстого непатриотичным. Окончательный разрыв произошёл в 1892 году, когда Толстой передал корреспонденту английской газеты «Daily Telegraph» резкую статью «Почему голодают русские крестьяне?», обвинившую царскую администрацию в тяжёлом положении крестьян. С тех пор Фёдоров отказался встречаться с Толстым.
Незаконнорождённый сын князя П.И. Гагарина поражал многих своими энциклопедическими знаниями в самых разных областях жизни, науки и искусства, знанием основных европейских и некоторых восточных языков Фёдоров обязан самому себе. Он первым составил систематический каталог книг Румянцевского музея, предложил наладить международный книгообмен. А.А. Гинкен, книговед, библиофил, автор проекта устава «Общества библиотековедения» в своей статье «Идеальный библиотекарь» назвал Фёдорова «героем и подвижником в области книговедения». Книгу он понимал как восстановление прошлого и воссоединение его с настоящим и будущим. А библиотеку понимал как средоточие знания, поэтому все «библиотеки должны быть не только хранилищами книг, не должны служить для забавы, для легкого чтения, они должны быть центрами исследования, которое обязательно для всякого разумного существа». О библиографии он высказывался так: «Это сухая, презираемая наука, и, тем не менее, ведущая всех к участию в самом труде знания, а не бесплодному лишь знакомству с его верхушками». Библиотечную карточку Фёдоров предлагал писать автору книги и превратить её в сжатое изложение содержания. Материал карточки должен был быть пожароустойчив и не подвержен тлению. Собирание личных библиотек Фёдоров признавал только в том случае, если библиотеку предполагалось затем передать в общественное хранилище. Всем владельцам частных библиотек он предлагал объединить свои картотеки и поместить в общедоступном месте. При необходимости любой желающий мог бы заказать книгу в специально оборудованный для этого читальный зал. Так Фёдоровым предполагалось объединить все библиотеки мира.
Замечательному московскому библиотекарю было поручено составлять списки литературы для закупки Румянцевским музеем книг за границей. Как вспоминали его друзья, этими списками пользовались и научные библиотеки других стран — так они были точны в определении самого нужного из вновь вышедшего в печати.
Фёдоров считал: раз церковь поминает, прославляет своих тружеников, то и библиотекари должны помнить авторов книг, поминая, изучая книги тех, кто умер в этот день. Он предлагал организовать работу библиотеки календарным порядком, ввести еще один отдел — выставочный. Именно в нём должны быть представлены в этот день книги умершего автора, его бюст, библиография его работ и т.д. Он предлагал библиографам составить каталоги в календарном порядке, по дням кончины писателей, выпускать словари, включающие всех писавших, в газетах печатать «прославления умершим писателям, приглашения к их изучению». А изучать — по Фёдорову — «не корить и не хвалить, а восстановлять жизнь». Нравственный смысл библиотеки философ понимал так: «Библиотека была и должна быть не просто собранием книг, а памятником, сооружённым предкам, в котором книги суть души писателей, а бюсты — их тела... Если хранилище сравнить с могилою, то чтение, или точнее исследование, будет выводом из могилы, а выставка как бы воскресением».
Фёдоров не признавал фотографии и резко высказывался о Толстом, который был против икон, но оставил себя на множествах снимках. Николай Фёдорович никогда не фотографировался. Однажды кто-то из его почитателей принёс ручной фотоаппарат, чтобы снять его за работой, Николай Фёдорович спрятался, присел за каталожные ящики, а потом убежал за стеллажи и не дал себя сфотографировать. И, если бы не Леонид Осипович Пастернак, знаменитый художник, отец поэта и писателя Бориса Пастернака, не было бы ни одного прижизненного изображения Федорова. Леонид Пастернак, как и многие художники, посещал библиотеку Румянцевского музея, по инициативе Льва Толстого, тайком, прячась за ширму, рисовал Фёдорова. Эти зарисовки сохранились, на их основе в 1919 году Леонид Осипович написал большой портрет Фёдорова и знаменитую картину «Три философа» – Толстой, Соловьев и Федоров сидят в каталожной Румянцевского музея.
В 1898 году Фёдоров оставил библиотеку Румянцевского музея – к великому огорчению сотрудников и посетителей. Он ушёл на пенсию для того, чтобы полностью посвятить себя научным занятиям. Именно к этому времени относится значительная часть того, что он написал. Его философия общего дела обретает законченный вид. Федоров систематизирует свои идеи – о регуляции человеком природы, о его выходе в космос и завоевании там обширных пространств.
Пенсия Николай Фёдоровича оказалась очень мала и недостаточна, что не могла удовлетворить его самые минимальные потребности. Он вынужден был поступить снова на службу, теперь в Архив Иностранных дел, который располагался поблизости от Румянцевского музея.
К концу 1903 года грянули сильные морозы, и Николай Фёдорович сильно простудился. Пневмония перешла в воспаление лёгких. Последние две недели жизни, когда болел, он вёл архивный поиск для одного из пользователей, помогая ему в работе над статьёй. Скончался в Мариинской больнице на Новой Божедомке для бедных. После смерти обнаружилось его происхождение, которое при жизни он тщательно скрывал. Фёдоров был погребён на кладбище Скорбященского монастыря на деньги, собранные сослуживцами по Архиву. На могиле оставлен крест с надписью: «Мир праху, великий учитель». Этот крест обновили в 20-е годы последователи идей Фёдорова. В те же годы монастырь закрыли, а кладбище, оказавшееся в районе плотной жилой застройки, было ликвидировано. В 1929 году могилы философа не стало. Не известно даже место захоронения, только участок.
В 1993 году при центральной библиотеке № 219 ЦБС «Черемушки» был организован общественный Музей-читальня Н.Ф. Фёдорова. В его стенах в течение трёх лет проходили лекции, семинары, круглые столы по философскому наследию космизма, глобальному развитию, футурологии, вопросам ноосферного образования; литературные, музыкальные вечера, художественные выставки, экскурсии... В читальном зале еженедельно дежурили учёные: историки философии, науки, культуры, давая бесплатные научные консультации всем желающим. Принцип безвозмездной, добровольной помощи был основой деятельности музейцев, одушевлённых заветом Федорова: «Не для себя и не для других, а со всеми и для всех».
В 1998 году Музей-читальня Н.Ф. Фёдорова был преобразован в Музей-библиотеку Н.Ф. Фёдорова и стал подразделением Центральной детской библиотеки № 124. К научным и просветительным программам, адресованным московской интеллигенции, всем, интересующимся историей отечественной и мировой культуры, прибавились разнообразные программы для детей и подростков.
Используемые материалы:
- https://www.booksite.ru/fulltext/vel/iki/yel/udi/34.htm
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Фёдоров,_Николай_Фёдорович#Биография
- https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/8783/1/14-Poltavskaya.pdf
- https://www.rsl.ru/ru/all-news/excursovody-pamyati-moskovskogo-sokrata
- http://nffedorov.ru/wiki/Музей-библиотека_Н.Ф._Федорова
 Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих